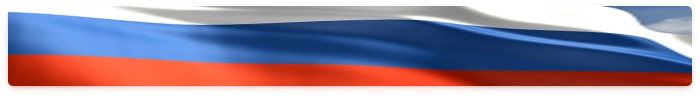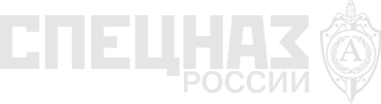РУБРИКИ
- Главная тема
- «Альфа»-Инфо
- Наша Память
- Как это было
- Политика
- Человек эпохи
- Интервью
- Аналитика
- История
- Заграница
- Журнал «Разведчикъ»
- Антитеррор
- Репортаж
- Расследование
- Содружество
- Имею право!
- Критика
- Спорт
НОВОСТИ
БЛОГИ
Подписка на онлайн-ЖУРНАЛ
АРХИВ НОМЕРОВ
ВЕДЬМИН КРУГ
Премьера с бывшим премьером
Летом 1922 года Брики сняли дачу в подмосковном Пушкино, познакомились с соседями. Среди них оказались милейшие люди! Биографии иных были похлеще жизнеописаний авантюристов из романов Стивенсона. Например, таковым оказался Александр Михайлович Краснощёков (Абрам Моисеевич Краснощёк, псевдоним Тобинсон) — участник Гражданской войны, старый революционер. Человек незаурядный.
После разгрома революции 1905 года Краснощеков бежал в Германию, а затем перебрался в Америку. В 1920‑1921 годах он был председателем правительства и министром иностранных дел буферной Дальневосточной республики (ДВР). На момент описываемых событий бывший заместитель наркома финансов возглавлял Промбанк и являлся членом комиссии по изъятию церковных ценностей, т. е. по грабежу имущества различных конфессий.
Краснощёков — видный, красивый, яркий, даже шумный человек — влюбился в Брик. Она ответила благосклонностью. Муж сохранял хладнокровие. Только процедил: «занятно» (кстати, это любимое словечко Осипа Максимовича). А Маяковский рвал и метал, требуя прекратить «внебрачные отношения». Он частенько цитировал теперь начало первой главы поэмы «Флейта-позвоночник», написанной после знакомства с Бриками.
Вспомните некую «молитву» безбожника, кричащего в небо эдакий синтез любви-ненависти: «Вёрстами улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я, этот ад тая! Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая?!. Делай, что хочешь. Хочешь, четвертуй. Я сам тебе, праведный, руки вымою. Только — слышишь! — убери проклятую ту, которую сделал моей любимой!»
Воспоминания расстраивали ещё пуще, Лиля не унималась, и нипочём не желала прислушиваться к его мнению. Она плакала, отстаивая свою свободу, и смеялась одновременно — столько событий! Воистину, «лето — это маленькая жизнь».
Роман с ней дорого обошёлся Краснощёкову и прервался самым печальным для действующих лиц образом: он растратил крупные суммы государственных средств и был арестован в 1923 году. По сообщению наркома РКИ В. В. Куйбышева, были установлены «бесспорные факты присвоения Краснощёковым государственных средств, устройства на эти средства безобразных кутежей, использования хозяйственных сумм банка в целях обогащения своих родственников и т. д.».
В обвинительном заключении о деятельности бывшего премьера ДВР и его брата Якова говорилось, что «они заказывали своим жёнам каракулевые и хорьковые шубы…» Сколько было жён и сколько шуб — известно лишь компетентным органам. Имя Л. Брик в судебных документах не упоминалось вовсе.
Лиля навещала незадачливого поклонника в Лефортовской тюремной больнице. И даже взяла к себе на время его дочь, четырнадцатилетнюю Луэллу. «Что делать? — писала она Маяковскому в Париж. — Не могу бросить А. М., пока он в тюрьме. Стыдно! Так стыдно, как никогда в жизни… Поставь себя на моё место. Не могу. Умереть — легче…»
Маяковский — Лиле: «Ты пишешь про стыдно. Неужели это всё, что связывает тебя с ним, и единственное, что мешает быть со мной? Не верю!.. Делай как хочешь. Ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит».
Наконец, Краснощёкова амнистировали, но «вся Москва» ломилась на премьеру спектакля, где Брик была выведена под именем злодейки Риты Керн, исчадия ада, которая соблазнила директора банка и толкнула его на растрату. Все понимали, что эта особа имеет вполне конкретный прототип. А первый французский посол в советской России Поль Моран написал памфлет с исторически устаревшим названием «Я жгу Москву». Здесь Лиля фигурировала под именем Василисы Абрамовны, а Осип (фигурная скобка с Краснощёковым) — Бена Мойшевич. Что ж, как сказал один поэт, дурная слава — тоже слава.
«Заключение» на Лубянке
Напряжение нарастало, и в конце 1922‑го Брик с Маяковским договорились расстаться на два месяца. Лиля писала сестре, перебравшейся к тому времени в Париж: «Мне до такой степени опостылели Володины халтура, карты и прочее, что я попросила его два месяца не бывать у нас и обдумать, как он дошёл до жизни такой». Попросила или приказала?..
Перед расставанием они долго общались. «Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий, — так впоследствии литературно описывала Лиля эту сцену. — Оба мы плакали. Казалось, гибнем. Всё кончено. Ко всему привыкли — к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живём в тепле. То и дело чай пьём. Мы тонем в быту. Мы на дне».
Чай пили втроём, а в квартиру на Лубянку сослали одного Маяковского! Как же так? Впрочем, он и не возражал, а без него стало как‑то веселее — ведь он такой… огромный, мрачный, назойливый! Требует верности и постоянства — этих мещанских установок! Стал совершенно невыносим! А как же идеи свободной любви в «духе революционной морали» мадам Коллонтай?! Р. Райт вспоминала, что встретила Маяковского в те самые дни на лестнице у квартиры Бриков. Думала, он заходил к ним, ан нет! Просто стоял и прислушивался…
Впоследствии, когда Н. Асеева попросили прокомментировать эту ситуацию, он вяло промямлил что‑то о революционных годах, о серьёзных, принципиальных размолвках с близким Маяковскому человеком, о бытовых установках, вопросах личного устройства, — в общем, обо всём, кроме правды.
Новый год Маяковский встретил один. Не выдержав установленный срок, он пишет Лиле: «Я не грожу, не вымогаю прощения…», «Я вижу, ты решила твёрдо…», «Я знаю, что моё приставание к тебе для тебя боль». И ещё. «… Жизни без тебя нет. Я сижу в кафе и реву. Надо мной смеются продавщицы. Страшно думать, что вся моя жизнь дальше будет такою».
Однако Маяковский, хотя и «ревел», но — писал. Именно тогда, в 1923‑м, современники отметили необычайный взлёт лирического дарования поэта. Лиля же уверяла, что «страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи».
«Что за бабушкины нравы?!»
«Исправительно-трудовая отсидка» закончилась 28 февраля 1923 года. Срок был соблюдён с точностью до минут! В восемь часов вечера Лиля и Владимир встретились на вокзале. За время «заточения» Маяковский написал «Про это» (основные мотивы всё те же — обида, ревность и прочее). А если бы не вынужденное отлучение от «семьи» — написал бы? Он прочитал ей поэму в купе международного ночного вагона, несущего их в Петроград, и заплакал. Вместо чая выпили шампанского.
«Лиля — с безупречно точным расчётом, совершенно сознательно, чего и сама впоследствии никогда не отрицала, — шла на это, побуждая его столь мучительным образом приковывать себя цепью к письменному столу», — отмечает А. Ваксберг.
Они помирились и даже съездили в компании с неизменным Осипом за границу. И это вполне в духе Бриков — жить, ни в чём не отказывать себе — несмотря ни на что. Но что‑то в отношениях Лили-Маяковского сдвинулось необратимо. Это было начало конца. Лиля же, «отчётливая ведьма», на своих «домашних мужьях» не останавливалась. У неё, по выражению актрисы Азарх-Грановской, было «обострённое половое любопытство».
Это выражение — «отчётливая ведьма» — надобно расшифровать. Обожаемый мною Михаил Пришвин (он одно время работал с Бриками) писал в дневнике: «У Достоевского в «Бесах» нет ведьмы. Почему? Вот лефовцы — это подлинные бесы: Маяковский — это Ставрогин, но Лиля Брик — это ведьма. Почему Достоевский не осмелился поднять руку на ведьму? Мне кажется, что если бы Достоевский посягнул и на это, то самому неоткуда было бы и расти. Ведьмы хороши и у Гоголя, но всё‑таки нет у него и ни у кого такой отчётливой ведьмы, как Лиля Брик».
Харьковский историк и исследователь литературы Александр Зинухов в своей книге «Жемчужина Луны» высказал предположение, что именно Лиля — «рыжеволосая, широкий оскал, густая, красная помада» — была прототипом Маргариты в знаменитом романе…
За Краснощёковым следовали новые увлечения — Асаф Мессерер, Фернан Леже, Юрий Тынянов, Лев Кулешов. Жена кинорежиссёра Кулешова, известная актриса, едва не покончила жизнь самоубийством, на что Лиля, пожав плечами, сказала: «Что за бабушкины нравы?!»
Любопытно, однако, что когда сама Лиля, работавшая в 1920‑е годы на «Мосфильме», неосторожно влюбилась в режиссёра Всеволода Пудовкина, а он не разделил её чувств, то пыталась отравиться, приняв большую дозу «Веронала»! Откачали. Ах, Лиля Юрьевна, что за бабушкины нравы?..
Возможно, ей не было дано сопереживать, и она действительно не понимала, что её связи могут приносить кому‑то страдания. Ну, не было в её душе этой важной составляющей. Бывает. В конце концов, не инвалид же! Как известно, была замужем четырежды. В своём дневнике не без лукавства подмечала: «Я всегда любила одного: одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Васю» (Брика, Маяковского, Примакова и Катаняна).
1924 год. Париж. Здесь Маяковского встретила Эльза. Художник Фернан Леже, друг её сестры и «сугубо наш человек», снял недорогой номер в отеле на Монпарнасе, и она с головой нырнула в парижскую жизнь. Но… «мне 28 лет и я надоела сама себе». Пустота, возникшая почти десять лет назад в связи с «утраченными иллюзиями» никак не заполнялась.
И вдруг — Владимир! «С ним приехали моя юность, моя Родина, мой язык». Надо ли говорить, что с Маяковским они виделись каждый день? Он нуждался в переводчице, гиде, спутнике. А в чём нуждалась она? В собеседнике, которого можно погрузить в неповторимую атмосферу её Парижа. В товарище, который разделит восторги улочками, Сакре-Кёр, мастерскими художников. В поэте, который оценит пробы пера. В любовнике, с которым можно взять реванш за прошлое. Хотя бы на одну ночь. Во всём вместе и в каждом по отдельности.
Париж говорил с Маяковским языком Триоле. А вообще‑то, у Эльзы всё было впереди — любовь (не с Поэтом!), и признание, и Дом… Но пока она не знала этого и всё цеплялась за человека, который стал чужим, а, может, никогда и не был её.
Маяковский же, купив Лиле шубку («которая в дополнении к краснощёковской приятно обогатила её гардероб»), мучился вопросом — любит или не любит его Лиля?! И, доводя себя до истерик, сам себе честно отвечал: «Нет. У тебя не любовь ко мне, у тебя — вообще ко всему любовь».
Салон, вертеп и штурмовой отряд
«23‑й год. Организуем «ЛЕФ». «ЛЕФ» — это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Этим определением, конечно, вопрос не исчерпывается, — интересующихся отсылаю к №№. Сплотились тесно: Брик, Асеев, Кушнер, Арватов, Третьяков, Родченко, Лавинский. Написал «Про это» («по личным мотивам об общем быте»)».
Левый фронт искусства был «салоном, и вертепом, и штурмовым отрядом, и коммерческим предприятием», как тонко подметил Ю. Карабчиевский. Лефовцы, по выражению Алексея Толстого, «прожорливые молодые люди, с великолепными желудками и крепкими челюстями», провозглашали следующее: «Истинные пролетарии от искусства — мы!», «Мы, «Лефы», ведём своё начало от «пощёчины общественному вкусу!», «Надо ежедневно плевать на алтарь искусства!» и т. п.
Будучи подведомственным ОГПУ, в частности Агранову, ЛЕФ вместе с Российской ассоциацией пролетарских писателей, которую возглавлял Леопольд Авербах, превратился в одну из двух рук некоего кукловода. Какого, догадаться нетрудно. Надо сказать, что ЛЕФ и РАПП вели между собой непримиримую, поддерживаемую «сверху» борьбу.
Об искусстве, основанном на диктатуре, в своё время мечтали итальянские футуристы и создали идеологию, которая вписалась в эстетику фашизма. «Отдельными лозунгами итальянского футуризма мы воспользовались, — признавался Осип Брик в 1927 году, — и остались им верны до сего дня». В качестве примера он приводил высказывание Т. Маринетти, теоретика футуризма: «…мы хотим восхвалить наступательное движение, лихорадочную бессонницу, гимнастический шаг, опасный прыжок, оплеуху и удар кулака». И били ведь!
В 1926 году громили Булгакова (за «Дни Турбиных»), Ахматовой и Мандельштаму навесили ярлыки «внутренних эмигрантов», травили Пильняка и Замятина… да мало ли. Соцзаказ — ничего личного. Кстати, в 1927 году Маяковский написал ряд стихотворений, прославляющих «солдатов Дзержинского», что совпадает с «нашествием» чекистов на салонные «вторники» Лили.
Через Маяковского Брики «царствовали» в журнале «ЛЕФ». Осип Брик подбрасывал идеи, тасовал, жонглировал ими, не обладая никакими способностями ввести их в русло науки. В ЛЕФе царил разнобой. К рулю тонущего корабля устремилась Л. Брик — она стала председательствовать на лефовских собраниях. Ничего хорошего из этого не получилось, ну не Лилина эта стихия!
На очередном заседании, когда О. Брик стал отчитывать Пастернака за то, что тот напечатал стихотворение не в «Лефе», а в каком‑то другом журнале, разразился скандал.
«Пастернак, — вспоминала Елизавета Лавинская, жена авангардного художника Антона Лавинского, оставившая бесценные воспоминания, — страшно волнуясь, оправдывался по‑детски, неубедительно, и, казалось, вот-вот расплачется. Маяковский просил Пастернака не нервничать, успокоиться, ну, нехорошо получилось, ну, не подумал, у каждого ошибки бывают…» И тут выступила Лиля. Резко перебив Маяковского, она принялась орать на Бориса Леонидовича. Все растерянно молчали.
Тогда Шкловский не выдержал и крикнул ей то, что думали многие: «Замолчи! Знай своё место. Помни, что здесь ты только домашняя хозяйка!» Немедленно последовал вопль Лили: «Володя! Выведи Шкловского!» Что сделалось с Маяковским!
«Он стоял, опустив голову, беспомощно висели руки, вся фигура выражала стыд, унижение. Он молчал». Шкловский встал и тихо произнёс: «Ты, Володечка, не беспокойся, я сам уйду и больше сюда не приду». И ушёл». Маяковский молча проводил его взглядом».
«Никогда, — писала Лавинская, — так наглядно не доходила до моего сознания стена, стоявшая между Маяковским и Бриками».
Злой демон
«Злым демоном» Маяковского называл О. Брика нарком просвещения Луначарский. На всех диспутах Анатолий Васильевич, в глубине души человек достаточно мирный, всей кожей ощущал его присутствие — даже если Брика не было.
Надо сказать, что Луначарский считал себя тонким знатоком поэзии Маяковского и всячески «продвигал» его произведения. По этому поводу Ленин как‑то написал: «Как не стыдно голосовать за издание «150 000 000» в 5000 экземпляров? Вздор… махровая глупость и претенциозность… А Луначарского сечь за футуризм».
Это искренне огорчило наркома, уж очень любил Маяковского, не жалуя, впрочем, его окружение. Луначарский даже как‑то (весьма поэтично!) сказал жене после встречи с Владимиром Владимировичем: «Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост». Брика он характеризовал как «человека, у которого нет никаких убеждений».
«А ещё, — пишет Ю. Карабчиевский, — либеральствующий наркомпрос видел в нём (Брике) средневекового разбойничьего патера, заранее отпускающего своей лефовской шайке любые, самые страшные грехи…»
Громы и молнии метал Маяковский — однако во многом, что касалось позиции, направленности, отношения к текущему моменту, холодно-трезвый схоласт Осип Максимович, как правило, был определяющим. Частенько дома, за рюмкой чая, он поругивал Маяковского за то, что тот «нёс отсебятину». Его влияние на лефовцев было несомненным. Начитан, знал языки, очень точно чувствовал конъюнктуру и очень ловко умел её использовать.
Мало кто знает, что Брик был не только теоретиком, но и сочинителем. Его «творчество» в какой‑то степени калька его отношений с Маяковским и Лилей, перенос на бумагу представлений о реальном мире. Некий высокий критик выразился очень точно: «Между автором и той пошловатой средой, которую он изображает, не чувствуется ни вершка расстояния».
Герой повести Брика «Не попутчица» (невольно вспомнишь дивное название «В чашу» из поляковского «Козлёнка в молоке»), коммунист и небольшой начальник тов. Сандраров, влюбляется в нэпманшу Велярскую. Его секретарша и гражданская жена тов. Бауэр весьма недовольна. «Муж» «открывает ей глаза»: «Мы ничем друг с другом не связаны. Мы — коммунисты, не мещане, и никакие брачные драмы у нас, надеюсь невозможны?»
Сожительница — «У коммунистов нет жён. Есть сожительницы» — стоит на своём: «Никакой супружеской верности я от тебя не требую. Но делить тов. Сандрарова с какой‑то там буржуазной шлюхой я не намерена». Ну и так далее. Диалоги героев можно рассматривать как отношение Осипа Максимовича к тем или иным обстоятельствам. Цитируя куски и кусочки из нетленки Брика, легко проследить «этапы большого пути» семейственного треугольника или проиллюстрировать события их совместной жизни — гремучей смеси неистовых страстей, голого расчёта, взаимовыгодных обязательств…
Не стоило посвящать этой теме столько времени, роясь, по выражению Маяковского, в окаменевшем дерьме. Дело в другом — она, эта история, как в выпуклом зеркале, отражает общее чудовищное падение нравов, помноженных на призывной лозунг Н. Бухарина — «Обогащайтесь!»
Общество, лишенное морали, где нравственность объявлялась пережитком буржуазного прошлого, обречено на деградацию и бесплодие. И в этом отношении «закручивание гаек» в середине тридцатых, осуществленное в Советском Союзе, — неизбежное зло. Если нет единства на уровне высоких материй, то только так, языческими методами, можно заставить людей выполнять стратегическую линию — строить государство победившего социализма, потом и кровью.
Потребуется страшная война — чтобы произошло единение людей на уровне коллективной, соборной души, устремленной к Богу. На Пасху 1945‑го храмы Москвы ломились от молящихся. Все это имеет непосредственное отношение к нашему настоящему, где «бриковская душегубка» стала нормой существования очень многих индивидуумов, считающих себя «солью земли».
Вернёмся к ЛЕФу. Целое поколение «изломанных людей», по словам Лавинской, делились на жертв и растлителей — циничный врун и соблазнитель Брик, жестокий, фанатичный иезуит Третьяков, пошлый смердяковствующий Кручёных… Нет ничего святого, никаких принципов, только конъюнктура и текущая выгода.
После полного распада ЛЕФа в 1930‑м Асеев, хитренько улыбаясь, попенял Лавинской: «Вы, художники, были дураками. Надо было ломать чужое искусство, а не своё…»
Любопытно, что Маяковского Е. Лавинская причисляет к жертвам. Но вряд ли это так. Он прекрасно понимал, что делает, да и авторитет его в ЛЕФе был очевиден. Авторитет, слава, талант — он хорошо знал себе цену, а «злой демон» только отчасти питал его и вдохновлял.
«Демон» и «запятатки», начиная с 1916 года, расставлял, и материалы, необходимые для работы подбирал. Запятые Маяковский ненавидел года с 15‑го, после того, как «напечатал «Облако»: «Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек. С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже». Они хорошо дополняли друг друга.
Пожалуйста, не женись всерьёз!
Ведь все эти годы Маяковский фактически содержал Бриков — совместное проживание продолжилось и в 1926 году, когда они переехали в полученную им небольшую четырёхкомнатную квартиру в Гендриковом переулке, №13 / 15. Маяковский лично ходатайствовал о том, чтобы прописать Лилю Юрьевну и Осипа Максимовича.
Добрые самаритяне заняли две отдельные комнаты. Поэту выделили одну — смежную с общей столовой. Ещё у него имелся тот самый рабочий кабинет на Лубянской площади, где он «отбывал ссылку» и где его застрелили…
Периодически Маяковский мучился от «злодейской любви и плакал», но и себе ни в чём не отказывал, «по жизни жаждал мяса, круглосуточно», как пояснял поэт Соснора. Лиля же относилась к его увлечениям легко. «…Бегает по бабам, задравши хвост, и пусть его — не ревновать же?»
Действительно, к кому, к «сиреневым», то есть заразившим поэта стыдной болезнью женщинам? — да и не царское это дело. Но, тем не менее, Брик была на страже собственных интересов. Например, когда Маяковский отдыхал в Ялте вместе с Натальей Брюханенко (редактором Госиздата), она писала ему: «Пожалуйста, не женись всерьёз!..» Этого они с Осей боялись больше всего.
«Щен» (М. имел стараниями Лили немало прозвищ и откликался на все) оправдывался: «Никакие мои отношения не выходят из пределов балдежа». И послал телеграмму, которая заканчивалась словами: «Целую мою единственную кисячью осячью семью».
По словам Е. Лавинской, «…В 1927 году поэт собрался жениться на одной девушке, что очень обеспокоило Лилю… Она ходила расстроенная, злая, говорила, что он (Маяковский), по существу, ей не нужен (!), он всегда скучен, исключая время, когда читает стихи. Но я не могу допустить, чтобы Володя ушёл в какой‑то другой дом, да ему самому это и не нужно…»
Шведский исследователь Бенгт Янгфельдт собрал и издал переписку Лили Брик и Маяковского. Там есть письмо в Ялту, в котором Лиля пишет, что её уверяют, что он‑де страшно влюблён и обязательно женится. Однако в русском издании письмо печатается без последнего предложения, причём купюра отмечена.
«Без купированного предложения, — говорит профессор Успенский, зять Брюханенко, — в письме Лили эта телеграмма («Целую мою единственную…») не совсем понятна… Я знал, что Янгфельдт издал эту переписку на английском языке, и подозревал, что там купюры нет. Когда мне случилось быть в Стокгольме, я отправился в Королевскую библиотеку… На месте купюры я увидел следующее: «…мы все трое женаты друг на друге, и жениться ещё раз грешно». Это мой вольный перевод…»
Видимо, в ответ на это и была послана известная телеграмма — её смысл понятен в свете Лилиного письма. Ай да Лиля Юрьевна, рассуждая о грехе, какие точные слова нашла, не придерёшься!
Итак, Маяковский сделал Наташе предложение, но «товарищ-девушка» отказалась, так как не захотела быть «всегда второй» — на первом месте для поэта, как он честно предупреждал «каждую невесту», будет Лиля и только Лиля.
Надо заметить, что все увлечения Владимира Владимировича «обсуждались на семейном совете», и, если возникали опасения определённого рода, «пассия удалялась от него подальше». Каким образом? А это есть маленькая тайна любящих Маяковского Бриков.
Привязанность поэта к Лиле была так сильна, что постоянно-непременно мешала ему в отношениях с другими женщинами. К тому же он был всегда очень озабочен выбором подарков для Лилечки, таща в семью и то, чем одаривали его благодарные дамочки — парижский парфюм, кожаные портмоне, брелки, памятные монеты… Остаётся только сказать сакраментальное — «К вящей славе Ордена!»
Но и ему доставалось. Чего только стоит небольшой списочек, который Лиля составила перед его поездкой в Париж: «Рейтузы розовые 3 пары, рейтузы чёрные 3 пары, чулки дорогие, иначе быстро порвутся… Духи Rue de la Paix, пудра Hubigant и вообще много разных, которые Эля посоветует. Бусы, если ещё в моде, зелёные. Платье пёстрое, красивое, из крепжоржета, и ещё одно, можно с большим вырезом для встречи Нового года».
Справедливости ради замечу, что и Лиля, когда находилась в разъездах, всегда находила время купить «милым щеняткам — Осику и Володику» что‑то из продуктов («посылаю 10 коробок шпрот…») или одежды. Впрочем, напоминала «милым, любимым, родным, светикам», чтобы они не забывались! То есть, «не изменяли», а не то «я вам все лапки оборву!» («Ваша киса Лиля»).
А покупка Маяковским «автомобильчика», который Лиле «очень хочется» и к нему наряд, шапочку, перчатки — это просто песня! Кто не помнит, в то время в Поволжье и на Украине голод, в стране карточки, Время, тяжёлое время! Доставка «не роскоши, но средства передвижения», четырёхместного красавца из‑за границы не могла обойтись без помощи «милого Яни» Агранова и других друзей из ГПУ.
Да, с «Рено» неладно получилось. Лиля — и это при тогдашнем количестве автомобилей! — сбила маленькую девочку. К счастью, всё обошлось благополучно, без смертельного исхода. Для Лили тоже, и даже без судебных санкций. С тех пор она стала ездить с шофёром.
Когда Маяковский вернулся из «города Парижу», состоялось его очередное объяснение с Лилей, которая в то время закрутила очередной роман — на этот раз с политическим деятелем из Киргизии Юсупом Абдрахмановым — но была искренне озабочена желанием поэта жениться на Татьяне Яковлевой.
Окончание в следующем номере.