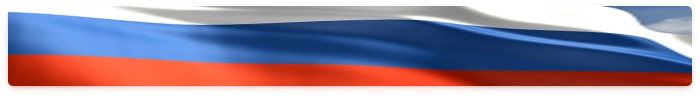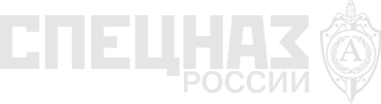РУБРИКИ
- Главная тема
- «Альфа»-Инфо
- Наша Память
- Как это было
- Политика
- Человек эпохи
- Интервью
- Аналитика
- История
- Заграница
- Журнал «Разведчикъ»
- Антитеррор
- Репортаж
- Расследование
- Содружество
- Имею право!
- Критика
- Спорт
НОВОСТИ
БЛОГИ
Подписка на онлайн-ЖУРНАЛ
АРХИВ НОМЕРОВ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА РУССКОЙ НАЦИИ
Влияние византийского исихазма на «Русское возрождение» второй половины XIV века не следует ни слишком преувеличивать, ни слишком преуменьшать. Исихазм был общеправославным движением, для которого во всех православных странах были характерны одни и те же черты: утверждение достижимости для человека идеала святости, отстаивание реальной возможности соединения с Богом, пропаганда монашеского делания как наиболее удобного и успешного пути достижения святости. Одновременно для исихазма характерно стремление освятить все стороны человеческой жизни, реально, а не только формально воцерковить государство, подчинив его авторитету и духовной власти святых. Именно исихазм и как мистический и как социальный феномен был высшим расцветом Православия, наиболее четким и многогранным выражением всех характерных, уникальных особенностей православного мировидения.
Последний, предсмертный всплеск творческой энергии Византии оказался в интерференции с политическим и духовным подъемом Руси, и именно на русской земле дал самые впечатляющие практические плоды. В Византии исихазму пришлось вести тяжелейшую политическую и культурную борьбу с «западниками» — гуманистами и предвозрожденцами. Не случайно, что основной оппонент духовного вождя исихазма святителя Григория Паламы — Варлаам Калабриец стал как бы крестным отцом западного Ренессанса. И в самой Византии столетие жестокой и кровавой борьбы в итоге закончилось «отступлением» Флорентийской унии. На Балканах, в Болгарии и Сербии исихазм остался, прежде всего, литературным движением, не имевшим решающего общественного значения. И только в России богословская и аскетичекская конструкция исихазма вызвала настоящий духовный, социальный, политический переворот. Более столетия Русь практически без остатка подчинила себя стремлению воплотить идеал исихазма в его целостности, то есть создать общество, усилия которого сконцентрированы были на идее святости. Византийцы наметили идеологию, но размах предприятия был чисто русским. Святая Русь в эту эпоху была не мечтой и даже не «творческим заданием», а практически свершившимся фактом; наиболее активные социальные элементы уходили в монастыри, и, после первоначального искуса в общежитии, лучшие, наиболее твердые и энергичные уходили еще дальше в леса, основывая новые и новые монастыри, протянувшиеся до полярной границы, до пределов, где основателю было сколько-нибудь реально выжить одному в первоначальный период основания монастыря.
В социально-экономической жизни это была эпоха заселения и освоения Русского Севера. Время первого шага того неудержимого русского колонизационного порыва, который придал маленькому Московскому княжеству заслоняющие все остальное, сразу узнаваемые, контуры на мировых картах. На фоне последующих достижений — освоения Великой Степи, Урала и Сибири, выхода на Кавказ и в Среднюю Азию, временного перехлеста на Американский континент, первые шаги этой колонизации кажутся довольно скромными и ничем не выделяющимися. Однако именно освоение Северной Фиваиды стало тем решающим достижением, после которого русских было уже не остановить. Представьте себе, что вы играете в стратегическую игру и у вас есть одна провинция, довольно богатая. Но и у остальных участников есть одна. И ваши действия скованы ресурсной недостаточностью; и вдруг вам достаются слабо освоенные и малолюдные земли еще одной провинции. Теперь у вас их две. Развив вторую землю, вы получаете огромное стратегическое преимущество над конкурентами, у вас появляется тот избыток возможностей и ресурсов, который вы можете направить на самые смелые проекты. Русский Север сыграл в XIV-XV веках роль такого «удваивающего ВВП» региона и фактора, опираясь на который Москва собрала вокруг себя русские земли, а затем грозно надвинулась на ближайших геополитических конкурентов.
Символом, форпостом и проводником, центром русского колонизационного потока был монастырь, выстраивавший события по описанной в начале раздела схеме: отшельничество — подвижническая община — общежительная обитель — система поселений с центром в монастыре — почкование новых обителей. Для этого нужен был совершенно особый, общежительный тип монастыря, созданный преподобным Сергием. Сергий создал монастырь по подобию русской сельской общины, спаяв его принципом совместного труда, круговой поруки и подчинения «большаку» — монастырскому игумену. Монастырь «сергиевского» типа уже сам по себе, без окружавших его крестьян, представлял собой небольшую деревню. Но только в отличие от мирских деревень монашеские поселения не знали ни женских распрей, ни детских шалостей. Вся человеческая энергия уходила в молитву, богослужение и труд, служащий изнурению плоти и созиданию нового, преображенного молитвой мира. Общежительные монастыри были своеобразными «заставами богатырскими», расширявшими русский мир, но только не в Степи, а в лесу и в сражениях не со степняками, а с дикой северной природой. Главной целью была святость, но святости достигали не по одиночке, а вместе, на пути к Небу преобразуя и мир земной.
Постепенно эта базовая структура усложняется. Монастырь концентрирует инвестиции «мира», направленные на спасение души тех, кто не удостоился монашества. Развивается «вкладная» система ставшая основой монастырской и, шире, общерусской экономики XV-XVI веков. Обостренные эсхатологические ожидания конца «седьмого тысячелетия» от сотворения мира, вынуждали людей с особенной трепетностью относиться к спасению души и заботиться о том месте, которое им предстоит занять на Страшном Суде. Особенное действие соборной, литургической молитвы, возносящей душу к Богу, побуждало и крестьян, и купцов, и бояр и дворян с особым тщанием добиваться постоянного поминовения их души, стремиться присутствовать в церковной молитве наравне с праведными и святыми. Отсюда и берет начало система поминальных вкладов, больших и малых, составивших главную статью дохода русских монастырей. Во владение (точнее — распоряжение, собственником считался сам Бог) монастырей передавалось движимое и недвижимое имущество, целые семейства и роды стремились быть представленными в монастырских синодиках, то есть отворить себе через монастырские врата путь к вратам райским. Обители становились теперь не только «фабриками святых», но и крупными поминальными центрами, открывали возможность восхождения к Богу не только своим постриженикам по лествице аскетических подвигов, но и всем желающим, через поминовение в литургической молитве.
Любопытно сравнить эту монастырски-вкладную систему с прямо противоположной ей западной системой индульгенций. Та была основана на идее индивидуального отпущения грехов, не за счет собственного покаяния, а за счет «сверхдолжных» заслуг святых, которыми, подобно банкирскому дому, распоряжался Папских Престол. Покупка «сверхдолжных заслуг» была типичной обменной операцией, предполагавшей едва ли не курсовую стоимость благодати. Реформация не столько отвергла сами индульгенции, сколько освободила капиталистическую обменную деятельность от религиозных оков, заложив основы западного капитализма. Вклад в русский монастырь, напротив, был не покупкой благодати, а инвестицией в ее стяжание к общей пользе. Основой здесь было не индивидуальное исключение из грешников, а сопричтение к сонму святых, находящихся в непрестанном поминовении Церкви. В проекции, эта система знаменовала и совсем иные, социально-ориентированные формы хозяйствования, и величайшее несчастье России в то, что эти формы в ее хозяйственной системе так и не были последовательно осуществлены.
Значительной была и социальная, благотворительная деятельность монастырей по рационализации хозяйства, страховании общества на случай неурожая и стихийных бедствий, по капитальному строительству; однако эта мирская деятельность не должна заслонять от нас главного, — огромные вклады и трудовые вложения в монастырь делались не ради мирских целей, а ради Царствия Небесного. Русь становилась Святой Русью именно проходя на Небо через монастырские врата.
Но не следует думать, что «сакральная индустриализация», были чем-то вполне мирным и бесконфликтным, не требующим от нации неприятных усилий и жертв. Монастыри учеников Сергия и учеников его учеников росли со скоростью вновь достигнутой лишь в «пятилетки», а государство и частные лица делали, как мы видим, огромные инвестиции в это строительство. Наряду с духовным подъемом монастыри должны были заниматься и хозяйственной деятельностью, осуществлявшейся не только руками монахов, но и подчиненных им крестьян. XV век был временем тихой «аграрной революции» в России. И восхождение на новую ступень развития совершалась за счет сил, бравшихся у земли. Русское крестьянство реагировало на развитие монастырей и подчинение им крестьянских земель, в общем, так же, как в ХХ веке на предшествовавшую индустриализации коллективизацию. Жития русских святых этого времени полны драматических рассказов о столкновениях с крестьянами, часто изображаемыми «разбойниками». А советские историки имели возможность защищать огромные диссертации о классовой борьбе русских крестьян против монастырского землевладения (сравнимого материала по боярскому землевладению, разумеется, не было, потому как в таком землевладении не было ничего индустриального и нарушавшего устоявшуюся систему аграрных отношений).
Когда сегодня удивляются, почему Русь не пережила подъема, аналогичного западному Ренессансу и Эпохе географических открытий, забывают, что Русь переживала в этот момент свой подъем и вложила в монастыри столь же огромные средства, что Запад вложил в океанское мореплавание. Пока Запад осваивал Новый Свет, русские осваивали Небесный Иерусалим. А греки признавали русских за «святой народ», — от св. патр. Филофея Коккина («то ту Христу агион этнос») и до диакона Павла Алеппского уже в XVII веке. Святость была доминантой национальной деятельности. Московское государство рассматривалось в этот период как организационно-политическое обеспечение этого центрального процесса.
Ранний московский проект «сакральной индустриализации» и по сей день воспринимается нами как загадочная и величественная традиция русской национальной истории. Образ «Святой Руси», живущей на пике духовного и эсхатологического напряжения, наверное, навсегда останется наиболее возвышенным, мистическим образом России. В этот период лучшие силы нации были одушевлены идеей святости, спасения души, стремлением к Небу. Наиболее ревностные и настойчивые принимали монашество, другие, прожив жизнь мирянина, стремились принять схиму хотя бы перед смертью. Монастырь был физическим и духовным центром национальных усилий. Симфония Церкви и государства, на какой-то момент воплотилась в высоком идеале московской агиократии, а массовое глубинное проникновение христианским идеалом, в значительной степени вытеснившим двоеверие из жизни простого народа, было закреплено культом почитаемых всенародно святых во главе с «игуменом земли Русской» преп. Сергием. Усиление Москвы и становление московской государственности в борьбе с внутренними конкурентами и внешними противниками воспринималось как боговдохновенный процесс собирания «царства святых», а противодействие этому процессу как богопротивление. Творчество преп. Андрея Рублева, Дионисия, русских храмоздателей заложило основы самостоятельного и своеобразного русского искусства. Это искусство было уже не только любованием величественностью и пышностью форм; исихастское влияние наполнило его мистической глубиной, представляющейся нам и до сего дня никем не превзойденной. В этот период Русь смогла осуществить себя в высшем духовном порыве, однако такой порыв никогда не бывает слишком длительным. Духовное сверхнапряжение дается нации только в отдельные моменты ее исторического существования. И удивительно скорее то, как долго Русь смогла жить «единым на потребу» и при этом успевать создавать государственную и военную систему, развитие которой стало основным содержанием следующего периода, эпохи «Третьего Рима».
В отличие от Киевского «предприятия», «сакральную индустриализацию» остановил прежде всего внутренний религиозный кризис, связанный с изменением функции русского государства, из служебной ставшей ведущей. Россия должна была из княжества стать Царством, Империей, ей понадобились уже не только молитвенные четки, но и меч, осененный крестом. Однако образ «Святой Руси» навсегда запечатлелся в национальном сознании нашего народа, как высшая религиозная цель, как высшая из возможных точек национального развития — стать «святым народом», сделать святость, высшее благо достоянием не узкого круга людей, а каждого, кто имеет волю к святости. Именно русские на сегодня представляют собой наиболее представительную «национальную общину» в Царствии Небесном. Причем это русские из всех социальных слоев, всех земель и родов занятий. «Другая Россия» была основана в средневековье на Небе.
ЦАРСТВО ТРЕТЬЕГО РИМА
С конца XV века и до конца XVII можно говорить о некоем кризисном раздвоении, начинается конкуренция двух национальных проектов, каждый из которых был и религиозно-санкционированным и национально значительным. Можно говорить о своеобразном конфликте «Святая Русь» vs «Третий Рим». Должна ли Россия решать задачу своего национального «феозиса» (обожения) или же есть необходимость переключиться на общеправославную политическую задачу Империи-Катехона (удерживающего), которая оружием и политической властью сдерживает неверие, ереси и т.д. Оставаться ли только Святой Русью или же взять на себя функции Второй Византии и Третьего Рима.
Конфликт и кризис «Святорусского» проекта был предопределен одним фактом, — что в конце XV века, по исполнении «семи тысяч лет от сотворения мира», не произошло Конца Света. Случись он тогда и национальная стратегия Руси на «сакральную индустриализацию» была бы единственно правильной, и русские оказались бы единственным народом, по настоящему готовым к происходящему. Но Конца Света не произошло, а значит встал вопрос о «посюсторонних» задачах охранения христианского социума, которые резко усложнились в связи захватом Константинополя агарянами, реформацией и контрреформацией в Европе и общим подъемом Запада. Давление на православный мир стало колоссальным и сдержать его могла уже только жесткая, властная сила, сила оружия. Пока Византия существовала хотя бы на небольшом островке вокруг Константинополя, Русь могла спокойно признавать за ней функцию общеправославного центра и поминать императора ромеев как своего государя. Стремление русских князей высвободиться от этой сакральной власти носило партикуляристский, а не узурпационный характер. Падение Константинополя в 1453 году сделало Русь единственным православным царством ойкумены. Когда прошла эпоха ожиданий скорого конца Света и началась «осьмая тыща» лет, Россия обязана была развить идеологию Третьего Рима, являющуюся не случайным изобретением, а естественным следствием из геополитического положения Московского царства. Россия могла либо полностью «уйти в небо», завершив эпоху существования Православия как цивилизационно-политической общности, либо выступить с мечом на вооруженную защиту Веры и обеспечить Православию устойчивый геополитический ареал, а возможно и условия для внешней экспансии.
В связи с критическим раздвоением национальной задачи появились конкурирующие интерпретации «сергиева» православного идеала. Современная историография совершенно ложно понимает конфликт между двумя духовными направлениями в Русской Церкви начала XV столетия — осифлянами и нестяжателями. В этом конфликте видят то столкновение «обмирщенного» и «духовного» Православия, то борьбу отрешенных мистиков и властолюбивых прагматиков, а то и вовсе чисто экономический конфликт. Между тем это было столкновение духовных школ, каждая из которых отстаивала свое представление о дальнейших путях развития национального проекта в рамках общего для обеих партий идеала.
Инициаторами спора, «наступающей стороной», были нестяжатели. Фактически они предлагали отказаться от продолжения программы «сакральной индустриализации», свернуть хозяйственную деятельность и строительство, а монастырям сосредоточиться на монашеском делании. Более того, вывезенный с Афона устав преп. Нила Сорского практически исключал появление в его рамках общежительных монастырей Сергиевского типа. Монашеству предлагалось ограничиться скитской и отшельнической жизнью и полностью освободиться от общественных функций. Нестяжатели исключительно активно включились в политику, борьба церковных «партий» была борьбой при великокняжеском дворе, причем Иван III и, первое время, Василий III поддерживали скорее нестяжательскую линию. Связано это было с тем, что, хотели того отцы-основатели нестяжательской традиции или нет, но принятие предложенной ими программы предполагало высвобождение и переориентацию материальных и человеческих ресурсов на другие задачи.
Нестяжателям с помощью своей программы удалось вывести в значительно более церковное и конструктивное русло секуляризационные интенции княжеской власти, находившие первоначально поддержку прежде всего у еретиков-жидовствующих. Никакого принципиального различия в борьбе с еретиками между обеими церковными партиями не было, поскольку, победи еретики, Россия стремительно выродилось бы в обыкновенное государство возрожденческого типа, аналогичное соседней почве. Однако нестяжатели предложили первую программу, согласовывающую интересы государства, требовавшего перераспределения в его пользу мобилизуемых нацией человеческих и материальных ресурсов и церковной практики. Церкви предлагалось сосредоточиться на духовном делании, передав материальный средства царству, на его военные, прежде всего, нужды. Отданные церковью земли должны были пойти на развитие поместной системы.
В среде нестяжателей прослеживается «эллинофильская» тенденция, наиболее отчетливо представленная преподобным Максимом Греком и его учениками. Максим был выдающимся просветителем и духовным писателем, сыгравшим большую роль в становлении русского богословия, но по политическим воззрениям он оставался византиецентристом. Максим считал автокефалию Русской Церкви незаконной и видел основную миссию Руси в победе над турками, освобождении греков и восстановлении Византийской империи. Русь в этом неовизантийском проекте воспринималась прежде всего как служебная сила, как греческая периферия, долгом которой является восстановить центр. Отсюда идет несколько уничижительное отношение представителей этой линии к русскому наследию, русским нравам и русской церковности. Отношение, не оставшееся в средневековье, а исправно перекочевавшее в современные исторические работы, видящее на Руси после падения Константинополя некий «упадок» и «кризис» Православия.
Программа нестяжателей, будь она реализована, угрожала секуляризацией государства, разделением «священного» и «мирского», привела бы к стремительному обмирщению, десакрализации русской власти. Те же тенденции вели и к сворачиванию самостоятельного русского культурного строительства, к подмене национальных внешнеполитических и имперских задач неовизантийскими, к отказу Руси от собственной судьбы. Попытки отражения угрозы «перемены судьбы» были важнейшей частью духовного и культурного содержания всего имперского периода русской истории. Поэтому вполне закономерным было появление в церковной среде русской национальной реакции на «инструментализацию» Руси.
Задачу нейтрализации негативных последствий программы нестяжателей и выработку русского национального имперского идеала взяли на себя преп. Иосиф Волоцкий и его ученики. Защита церковных имуществ была для преп. Иосифа не самоцелью и не являлась с его стороны каким-то особым новшеством. Он защищал сложившуюся в эпоху сакральной индустриализации практику общежительных монастырей и «вкладно-поминальную» систему монастырского хозяйства. Точнее даже не защищал, — выражал, в силу необходимости, тот идеал и тот порядок, которые были характерны для большинства развитых общежительных монастырей «сергиевского» строя. Сам, будучи основателем и игуменом образцового монастыря, Иосиф не формулирует в своих посланиях ничего нового, он высказывает, порой довольно простодушно, то, что было очевидностью для поколений игуменов до него. «Церковная бо и монастырская такоже и иноческая, и дела их вся, Богови суть освящена (посвящены) и на ино что не расточаются, разве на убогыя и странныя и плененныя и елико такова, подобнее на своя иноческая и монастырская и на церковная потребы нужноя. Обаче ниже и сия без потребы. Князь же или ин некий… аще от сих что возмет на своя потребы, яко святотатец от Бога осудится». Этой формулой преп. Иосиф защищал простую и очевидную для него мысль: «имения» вложенные в церковные владения в рамках «сакральной индустриализации» составляют принадлежность священного, а не мирского порядка и князю уже не принадлежат, он над ними не суверенен. Причем речь идет не о правиле, обоснованном социальной прагматикой (вроде необходимости благотворительности), а о безусловном божественном установлении. С этой консервативной позиции преп. Иосиф не сдвигался ни на шаг, и все попытки идеологов нестяжательства и государственной власти добиться в этом вопрос теоретических уступок со стороны осифлян закончились неудачно.
Подлинная новость учения преп. Иосифа и осифлян состояло в другом, — в богато и разнообразно развиваемом учении о царе и царской власти, как о защите и ограде Церкви, и о Русской земле как о твердыне благочестия. Иосифлянство раскрылось в полемике с еретическими влияниями запада и с эллинофильством нестяжателей как последовательный русский церковный национализм. «Русская земля… благочестием ныне всех одоле. Во инех бо странах, аще мнози бяше благочестиви же и праведни, но мнози беяху нечестиви же и неверни, с ними же живущее и еретически мудръствующе. В Рустей же земли не токмо веси и села мнози и несведоми, но и гради мнози суть, иже ни единаго имущее неверна или еретическая мудръствующе, но вси Единого Пастыря Христа едина овчата суть, и вси единомудръствующе и вси славящее Святую Троицу. Еретика же или злочестива никтоже нигдеже видел есть», — заявляет Иосиф. В посланиях великому князю Василию Ивановичу преподобный развивает концепцию богоустановленности царской власти и ее высочайшей ответственности за духовное состояние подданных, за внутренний порядок и внешнее ограждение христианского народа. «Господь Бог устроил Царя в Свое место и посадил на Царском престоле, суд и милость предаст ему, и церковное и монастырское, и всего Православного государства и всея Русския земли власть и попечение вручил ему». Особенное значение преп. Иосиф придавал необходимости для царя преследовать и казнить еретиков, и именно политика беспощадной расправы с жидовствующими, основание которой положил Волоцкий игумен, стала первым актом вооруженной защиты Православия, осуществлявшейся царской властью России в течение следующих столетий.
Отстояв неприкосновенность монастырских имуществ, иосифлянство заложило основы идеологии Русского царства как «катехона», преемника Ромейского царства в метаисторической функции «удерживающего», вооруженной защиты Православия от действия «тайны беззакония» в этом мире. С концентрации исключительно на Небесном Иосиф переводит и церковное, и монастырское служение на сотрудничество с властью в удержании Православия в мире сем. Из «авангарда», устремленного к небу, Россия становится форпостом на земле, аскетическое сосредоточение становится делом избранных (как то было и в Византии), большинство нации и большинство церковных людей сосредотачивается на укреплении здешней «крепости» Православия и Церкви. Даже чисто внешне мощные крепостные стены «иосифлянских монастырей» и возносящиеся вверх триумфальные столпы шатровых храмов, говорят о готовности биться за удержание мира сего в Православии, против наступления нечестия, ереси и иноверия. Оставаясь никому не подвластной в духовных делах, Церковь, по доктрине Иосифа, вступает в самое тесное содружество с государством в исполнении военно-политической миссии Христианской Империи.
Доктрина старца Филофея о «Третьем Риме» была лишь логичным следствием из оформившегося уже к тому времени иосифлянского учения, ставшего официальной церковной доктриной на долгие столетия. Эта доктрина предполагала не византиецентризм, а россиецентризм, не восстановление Византии во что бы это ни стало, а развитие и укрепление царства Русского становятся подлинной задачей православных христиан. Удивительно то, насколько быстро Россия переориентирует свой огромный национальный потенциал на военно-политическое усиление и расширение. Формируется поместная система и возникает обширное сословие служилого дворянства с его служилой этикой, военной честью и особыми целями и интересами. Начинается реконкиста русских земель у стремительно католизирующейся Литвы и начинается массовый переход в русское подданство боярства этих земель, так что наряду с Рюриковичами среди русских княжеских родов появляются и Гедиминовичи. Вопрос о том, под началом какой династии объединится Русь решен с тех пор однозначно: Литве предстоит ополячивание и распад, России — усиление.
Создается засечная система на границе со Степью, и начинается имевший всемирно историческое значение процесс наступления России на Степь. Несколько тысячелетий Великая Степь была генератором деструктивных исторических изменений, «выбрасывая» на европейскую и китайскую окраины Евразии воинственные кочевнические орды. В русской мысли постепенно сформировалась концепция России как «щита» Европы, закрывшего цивилизацию от орд степняков, замечательно выраженная Пушкиным в письме к Чаадаеву. Эта концепция является секуляризованным вариантом византийско-московского представления о катехоне. Расширение государства на Восток и покорение бывших областей Монгольской империи воспринималось как свидетельство торжества христиан над агарянами, и, в то же время, как своеобразное повторение легендарного подвига Александра Македонского, «запершего за железными воротами» апокалиптических Гога и Магога. Так или иначе, именно имперское расширение России «заперло» степные ворота Евразии, и превратило дикую окраину цивилизованного мира в становой хребет русской государственной территории.
Взятие Казанского и Астраханского царств, а перед этим венчание на царство Иоанна IV, знаменуют зрелость русского царства, а Стоглавый собор оформляет осифлянскую доктрину и практику, церковный устав Третьего Рима, в стройную систему. Устанавливаются основные принципы канонической практики, агиополитики и даже правила церковного искусства. Характерной чертой этого недолгого первого расцвета «третьеримского» национального проекта является его строгий москвоцентричный характер. Россия видит ценность в самой себе, и именно деяния Русского царства являются, на взгляд его идеологов, имеющими эсхатологическое и метаисторическое значение.
То, что начало происходить вслед за первыми восточными победами навсегда останется загадкой русской истории. Вскоре после успешного начала Ливонской войны и выхода России на западные рубежи, начинается эпоха страшной смуты, знаменитая Опричнина, представляющаяся с внешней стороны «Царством Террора», чередой бессмысленных и беспощадных зверств государя, внезапно превратившегося в жестокого и кровожадного тирана. Внутреннее содержание этих событий приходится скорее угадывать. Россия впервые встретила лицом к лицу Врага, ту силу, с которой пути «Третьего Рима» так просто разойтись не могли. Если до того момента Московию воспринимали как любопытную периферию европейского мира, то попытка Ивана овладеть Ливонией вызвала жесткий коалиционный отпор блока европейских держав, а по Европе прокатилась первая волна клеветнической русофобии, не умолкающей с того дня ни на минуту. Всякое подозрение, что московиты могут вмешаться в ход европейских дел, вызывало в Европе ненависть и стремление покончить с угрозой раз и навсегда.
Против России был использован весь богатый инструментарий макиавеллистской политики Ренессанса: заговоры, подкуп, экономическая и технологическая блокада, «черный пиар», на Русь во множестве устремились желающие послужить царю иностранцы, порой более напоминавшие шпионов. И вскоре выяснилось, что уровень внутреннего самоструктурирования русской нации явно не достаточен для того, чтобы противостоять этим политическим технологиям. Царь столкнулся не просто с отдельными фактами измены, а с целым каскадом измен, предопределившим итоговую неудачу в Ливонской войне. Знаковым событием, ставшим своеобразным символом измены, стало бегство к военному противнику — литовцам, наместника Ливонии князя Андрея Курбского (кстати, члена кружка Максима Грека). Иван вынужден был реагировать. Причем интересным в его реакции является не начало террора, не факт казней и опал, в конечном счете, казни и опалы были нормальным средством средневековой политики во всех странах, и Россия по этой части отличалась скорее излишним «вегетарианством» власти. Подлинное значение опричнины состояло в том, что Иван попытался дать системный вызов на угрозу внутреннего разрушения нации.
Иван выделил «верную» ему часть России, создал для управления этой частью особый военно-служилый орден и организовал этот орден наподобие общежительного монастыря, в котором сам был игуменом. Не случайно в опричинину были выделены прежде всего северные земли, колонизованные в эпоху сакральной индустриализации и имевшие особое экономическое и символическое значение. С помощью опричнины Иван пытался создать новое государство, взамен старого, которое он считал пораженным изменой. И опричный террор обрушивался, прежде всего, на те социальные группы и местности, где царь мог предполагать сильные пролитовские и прозападные настроения. Не случайно главной жертвой террора стал Новгород, раз и навсегда лишившийся своего прежнего величия и утративший с погромом 1570 года всякое историческое значение.
Меры национальной самозащиты, предпринятые Иваном, были правильны по сути, — угроза, с которой столкнулась Россия на историческом подъеме, была серьезна и системна. Однако сам ответ носил слишком субъективный характер и отражал беспокойный темперамент царя, в котором вполне гармонично уживались гений и злодейство. Главной ошибкой Ивана стало фактическое отступление от иосифлянских принципов сотрудничества Церкви и Государства, выразившееся в убийстве митрополита Филиппа и в явном попрании всего традиционного порядка и благочиния русской жизни. Сами опричники, пьяные, развратные, хулиганящие, не снимающие в церкви шапок, меньше всего напоминали членов ордена, призванного очистить Русь от крамолы. Иван предпринял первую попытку ответить на вызов Запада «по-западному», «самому стать драконом, чтобы убить дракона», однако эта попытка провалилась. Россия вышла из эпохи Грозного, не решив своих основных внешнеполитических задач на Западе и не укрепив национального единства. Смута, потрясшая царство в начале XVII века, была логичной расплатой за эту историческую неудачу.
По своему историческому смыслу Смута не представляла собой нового исторического феномена по сравнению с «изменой» второй половины XVI века. Это было продолжение и углубление работы по расшатыванию устоев «Третьего Рима» внешними силами при помощи самозванцев, изменников, а затем и прямой интервенции. Новыми были лишь ее масштабы, — распадение государства на части, на конфликтующие социальные группы, на враждующие группировки элиты, гражданская война и крестьянские мятежи. Однако именно масштабы смуты оказали положительное влияние на ее конечный исход. Поставленная на грань исторического выживания, русская нация сплотилась, самоорганизовалась, и проблема внутренней консолидации и единства была, наконец, решена. Формула князя Дмитрия Пожарского «Стоять вместе против общих врагов и против русских воров которые новую кровь в государстве всчинают», означала, что русские стали нацией «новоевропейского типа», для которой национальная солидарность, противопоставление себя «всей землей» общему внешнему врагу и категорическое неприятие любой «измены» являются ценностями первостепенного значения. Молодая монархия Романовых была не только по форме, но и по сути национальной монархией.
В XVII веке Россия, наряду с внутренним укреплением, продолжает процесс внешнего имперского расширения, — после длительной полосы неудач в войнах с Польшей, происходит перелом в процессе реконкисты, Россия возвращает Левобережную Украину. В Сибири русская колонизация доходит до Тихого океана и под властью русских царей собирается вся северная Евразия. Завязываются интенсивные сношения с Востоком, непрерывной чередой посещают Москву восточные патриархи, тем более, что в самой Москве, еще усилиями Бориса Годунова (предначертавшего значительную часть программы будущей романовской политики), уже создана кафедра Патриарха, и именно патриаршество сыграло огромную роль в одолении Смуты. Под влиянием с востока Россия начинает рассматривать Османскую империю как своего непосредственного геополитического и сакрального противника, — Россия предъявляет не только символические, но и реальные геополитические притязания на Византийское наследство. Идея освобождения православных христиан от турецкой власти становится на повестку дня и Алексей Михайлович публично клянется грекам, что он не пожалеет ни казны, ни войска, лишь бы освободить отеческие святыни.
Роль «восточного проекта» в русской национальной истории довольно противоречива. С одной стороны, его возникновение свидетельствует о возросшей силе и самосознании русской нации. С другой, ради призрака Царьграда русские добровольно ввергают себя в очередной национальный кризис. Центральной идеологической проблемой царствования Алексея Михайловича становится проблема соотношения национально русского и византийского в нашем Православии. Очевидные несогласованности местного русского священного предания и преданий греческих церквей выносятся на поверхность и проблематизируются (хотя никакой проблемой в Церкви не являются). Русские консерваторы защищают традиционную москвоцентричную позицию иосифлянства: «Русская земля благочестием всех одоле». Эллинофилы и сами греки отстаивали противоположную позицию, — греки имеют право первородства, они сохранили чистоту веры, Церковь Греческая ближе к истокам и источникам, в то время как русская традиция есть только «перевод», который нуждается в регулярной сверке с оригиналом.
«Сверка» началась в эпоху патриарха Никона и закончилась грандиозным национальным расколом. При этом самого патриарха подробности «книжной справы» в общем-то не интересовали, и она проводилась довольно случайным образом. Никона интересовал проект усиления церковного влияния в Русском государстве и имперский проект, который должен был вывести Россию на положение реального первенства в Православном мире. Его масштабная агиополитическая и идеологическая программа, выразившаяся прежде всего в создании новых монастырей, «нового Афона» (Иверского монастыря), Нового Иерусалима, была заточена на россиецентризм большого имперского стиля, и старообрядцы могли представляться ему ретроградами, мешающими «большому делу». В самом Никоне было намного меньше «никонианства», чем ему приписывалось старообрядческими полемистами. Патриарх был церковным деятелем вселенского масштаба и искренним защитником Православия и прав Церкви. Однако он не понимал того, что сразу инстинктивно почувствовали первые деятели старообрядчества, — имперская программа была только приманкой для разрушения русского церковного и социального уклада, для превращения «Третьего Рима» из центра мира в придаток чужих политических планов. Так оно и получилось: после проведения реформы Никон был отстранен, а затем и осужден с участием восточных патриархов и при решающей роли прямого агента Ватикана Паисия Лигарида. Одновременно были осуждены, а затем и казнены вожди старообрядчества во главе с Аввакумом, а на старые обряды была наложена роковым Большим Московским Собором 1666 года беспрецедентная в истории Православия анафема. Своеобразным финальным аккордом Руси уходящей стала длительная оборона монахами-старообрядцами северной твердыни Русского Православия — Соловецкого монастыря.
Духовное и политическое пространство было зачищено и от осифлянского православного москвоцентризма, и от имперского византизма — для свободного водворения на Руси той или иной формы западничества. Угрозу духовной колонизации России видели все, но ослабленная искусственно разожженной внутренней распрей Русская Церковь уже на могла дать на нее свой ответ. Нужна была новая национальная воля и решительная мобилизация национальных сил, чтобы выйти из тупика.
(Продолжение в следующем номере)